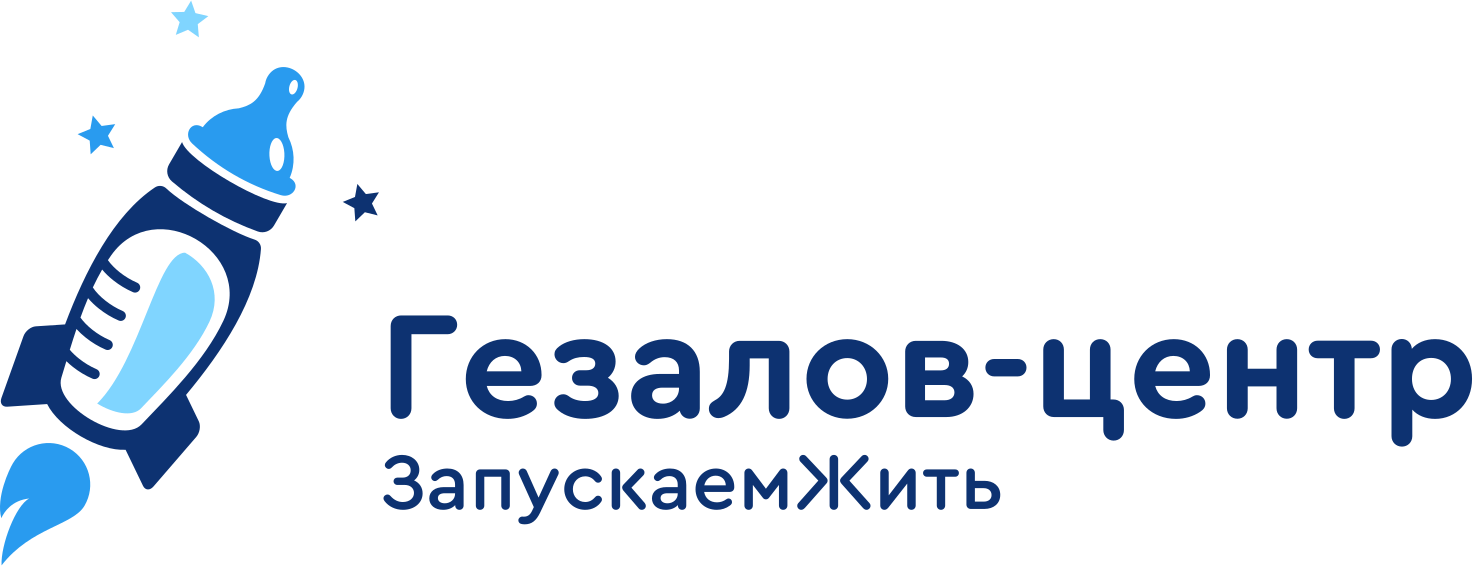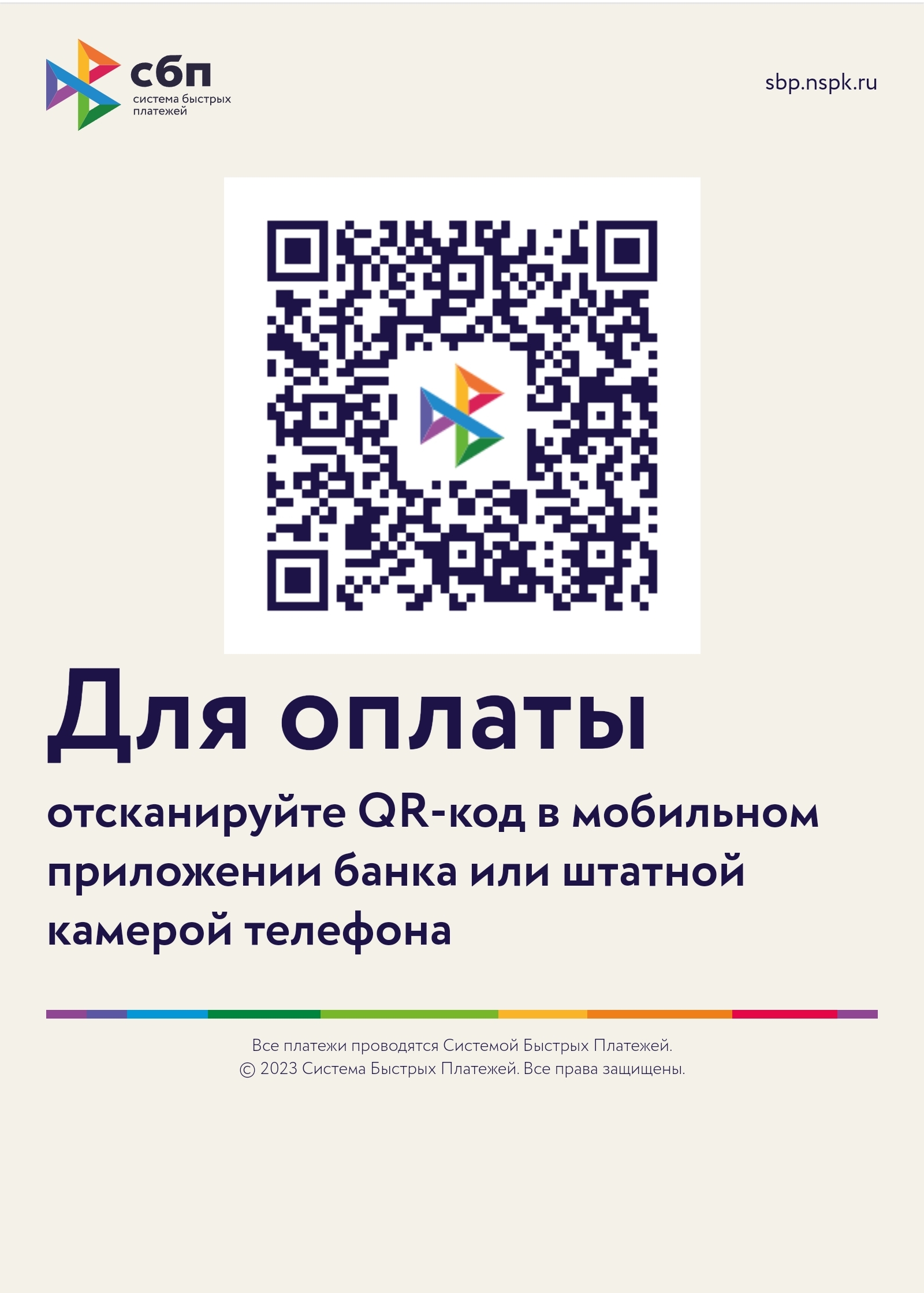Часть вторая: Неудобные ответы

Как правильно работать с ребенком?
Сначала необходимо проработать болевые точки, существующие в работе волонтеров. Первое – сохранение личных границ, личного пространства ребенка.Необходимо максимально учить ребенка дистанционному общению, ставить правильные установки: ему нужно об этом говорить, нужно правильно себя ставить, первое время вообще не садиться. Когда я приезжаю в детский дом, мое расстояние до ребенка – 40-50 см. Я не позволяю ребенку приблизиться ближе. Сближение нужно пресекать категорически. Почему, например, выходя из детских домов, девушки сразу же, через год рожают. Потому что у них нет личных границ. И это тоже психическое расстройство.
Второе – никаких лишних надежд.
Волонтер приходит в детский дом, у него такое повышенное душевное состояние… А перед ним еще такой же был, а до него – еще. Сначала ребенок не понимает, почему они все такие возбужденные, а толку никакого. А потом начинает догадываться, что из этого можно получать выгоду. Он же видит: у этой глазки текут, у той, а никакого хэппи-энда не наступает. Соответственно, нужно пользоваться тем, что есть. И начинается: телефончики, денежки, одежда, золото, бриллианты и так далее. Они разводят людей. И это становится основой их системы выживания в системе детских приютов. И очень часто потом в семью то они и не хотят. Ребенок начинает понимать, что находясь в семье, он этих благ уже не получит. Уже через месяц жизни в приемной семье он начинает понимать, что чего-то не хватает. Он продолжает общаться с детдомовскими товарищами и узнает, что пока его здесь заставляют из лоховской квартиры выносить мусор, детдомовскому за это время добровольцы выдали два айфона, свозили в Италию. Начинаются нервы, мама не понимает, почему он такой нервный. А он нервный, потому что ему опять надо что-то получить. Ему не нужны отношения, у него нет ни симпатии, ни эмпатии, он не умеет контактировать по-человечески. Ему нужен только материальный ресурс. И результат: около 10 тысяч в год возвратов детей обратно в детдом. Его возвращают, а он счастлив.
Потому что снова приходят добровольцы, опять эти глазки и подарки. Сейчас в Москве уже разработано законодательство, согласно которому любой желающий в детский дом не попадет (это, кстати, отчасти является манипуляцией со стороны системы, искусственного сдерживания возможности ребенка покинуть детский дом). Посещение столичных учреждений государственной заботы строго регламентируется, от волонтера требуется наличие книжки добровольца. А, например, во Владивостоке предложили всем желающим прийти в детский дом и ночью поздравить детей с Новым годом.
Это нормально?
Я позвонил тому, кто это инициировал, директору, говорю: «давайте я к вам ночью приду, а это дети». Или был еще один человек в Самаре, не буду называть его фамилию, который говорил, что все желающие должны приходить в детский дом ночью и перед сном шептать каждому ребенку на ушко «Спокойной ночи». Вот такое понимание, что с ребенком из детского дома можно делать все, что хочешь. Третье – настраивание ребенка на сотрудничество, на дальнейшее взаимодействие.Этого тоже никто не делает. Каждый доброволец должен быть «снайпером» и прицеливаться в конкретного ребенка. А получается все со всеми, толпа на толпу – это неэффективно. А сиротам этого и надо. Как только появляется личностная история, они стараются от этого уйти, потому что им это непривычно, это нересурсно, это нелогично для них. Они привыкли к толпе людей и объему материальных ресурсов (подарков), которые между детьми затем перераспределяются. Поэтому они (особенно, старшие) всячески стараются сделать так, чтобы никаких индивидуальных историй не было. Как только кто-то с кем-то начинает взаимодействовать, этой «связи» пытаются помешать.
Потому что такой выбранный ребенок начинает быть главным ресурсополучателем. Это не в кассу. Его начинают либо бить, либо унижать, когда все уезжают. И ребенок начинает манипулировать: «мне ничего не нужно, пожалуйста, все приезжайте, но меня не выделяйте».
В какой ситуации наставничество находится сейчас?
Сейчас наставничество клоунское. Это связано с тем, что в эту сферу пришли фонды, задача которых сделать что-то здесь и сейчас, чтобы показать, что они этим занимаются. У них нет задач на долгую перспективу. Чаще всего они это делают для галочки. Например, в Смоленске открыли центр поддержки выпускников детских домов, в штате которого числилось сорок сотрудников, а дети туда не ходили. Однажды я к ним приехал, вдруг вижу, сидят какие-то выпускники. Я спрашиваю: «вы что?». А они: «нас позвали (шепотом), сказали, что нужно прийти, потому что Гезалов приедет». Заходит сотрудница, открывают чай, а чашки из ящика никогда не доставались – на них пыль. «Дети к вам ходят?» – спрашиваю. А один мальчик шепчет: «да мы не ходим, что тут делать?
У нас мысли, где что достать, а тут нам будут лапшу вешать и нас учить». Этот центр закрылся через какое-то время, потому что то, что его создатели пытались предложить, не отвечало социальному заказу ребенка. Я представляю себя на месте этого ребенка: я туда приду и что, мне чаю нальют? Что мне скажут в этом центре поддержки выпускников детских домов? Учись хорошо? Или, Вась, ну как ты?Чтобы включаться в конкретного ребенка, нужен другой мотив. Наставник, в отличие от добровольца, настроен не на эпизодическую помощь, а на постоянную. Он все время включен в одного ребенка. Это называется субъектное взаимодействие, и оно самое эффективное. Наставник дома думает, как помочь конкретному ребенку, но он не думает, как помочь всему приюту. Я читаю чаты: «давайте мы всем поможем, в группу соберемся». Нет, мое мнение: так это не работает. Назовите конкретную фамилию ребенка, у которого, благодаря вашим действиям, произойдут конкретные изменения. А когда вы говорите: «мы с этой группой детей работаем, а мы – с этой», это называется «групповуха».
Сейчас я скажу еще более жесткую вещь, может быть. Сама система научилась за последние двадцать лет «правильно» (в кавычках) принимать добровольцев. Она четко говорит: «вот здесь вы можете, а вот здесь не заходите. Если вы зайдете вот за эту грань, мы сделаем так, что вас здесь больше не будет». И, получается, что сама добровольческая структура малоэффективна, потому что не добровольческая дружина влияет на систему, а сама система, наоборот, делает так, как ей выгодно.
Сначала все приюты ведут себе весьма гостеприимно: ресурсы, занятость, сотрудники отдыхают, добровольцы при деле, при этом еще что-то всегда привозят. Они говорят: «мы вас допустим до детей, если вы нам вот это и вот это сделаете». Добровольцы стараются, делают.Одна наша сотрудница все время ездит в одно и то же место. И первое, что делают директора детских домов – дают для добровольцев детский концерт. Все садятся, детки выходят, поют – на это же нельзя без слез смотреть. А директор следит за реакцией зрителей: так, эта сухая с нее пока толку мало, а у этой глаза на мокром месте, ей сразу письмо «у нас не хватает восемь телевизоров, надо в туалете тоже повесить». «Да, конечно, это же дети, я подпишу, я сделаю». А той, которая сухая: «ну, вы к нам еще приезжайте».
Понимаете, да?
Однако как только помощь превращается в профессиональную историю, как только вместо снабжения материальными ресурсами начинается реальная помощь семьям, дети начинают в семьи возвращаться – это уже угроза системе. Еще раз повторю, системе невыгодно, чтобы дети ее покидали. И, если мы начинаем личностноориентированную историю, начинаем эффективно работать так, чтобы 70 процентов детей вернулись в семью, система начинает сопротивляться.Почему? Потому что очень мало останется детей, за которых они смогут получать деньги. Это называется подушевое финансирование. И поэтому их риторика такова: «пожалуйста, пляшите, болтайте, танцуйте с ними, но как только вы начнете работать на то, чтобы ребенок вернулся, все кончится».
Недавно я звонил в одну подростковую колонию в Можайске, чтобы договориться с ними о сотрудничестве (до этого мы работали с одной колонией, и она закрылась, так как там всего 4 человека остались). Звоню и спрашиваю: «сколько у вас детей?». Они говорят: «очень мало, пятьдесят». То есть людоеду 50 детей – это мало! А сколько вам надо? 200? 700? Им надо 1500. Почему? Потому что разница между 50 и 1500 только в том, что за 1500 детей они будут больше получать. Автоматы и собаки останутся те же. Система «изменения» детей останется такой же, как и при 50. Я говорю: «как вы так можете, пятьдесят детей – это тоже очень много». Сейчас мы будем пытаться в это вмешаться.
Возвращаясь к наставничеству. Когда система начинает понимать, что появилась профессиональная команда, которая начинает что-то делать, у них внезапно, например, объявляются карантины – начинают болеть дети, сотрудники. Или начинают запугать. Самое страшное, чем они могут угрожать: у вас есть люди, которые ведут себя с ребенком таким образом, что мы начинаем его подозревать…Очень часто мне люди пишут, что в какой-то момент им начинают намекать, что «было бы хорошо, если б вас здесь не было; вы так хорошо работаете, что нам это не нужно».
У меня была такая ситуация. Я вел театральную студию в одном интернате, и все дети (несмотря на то, что они были глухонемые) ко мне ходили на занятия. Как-то я с ними сумел наладить контакт, работу, и все было хорошо. И тут меня вызывает одна воспитательница и говорит: «знаете, наш коллектив недоволен, что к вам дети ходят, а нас игнорируют. К вам они по имени и отчеству «Александр Самедович», а к нам – «Танька», матом нас посылают. Что же это такое?» Я говорю: «просто работаю, профессионал». Ладно, ушла. Через какое-то время меня вызывает директор: «Александр Самедович, у нас есть сигнал о том, что вы как-то так взаимодействуете с детьми, и это очень подозрительно. У нас есть воспитанница, которая готова на вас написать». Я понимаю, в чем вопрос: – Я должен написать заявление?– Да, вы должны написать заявление, потому что коллектив волнуется, что вы так взаимодействуете с детьми. Короче говоря, мне пришлось уйти. Если бы они заставили детей это написать, мне уже никогда было бы не отмыться.
Поэтому я повторюсь: во взаимодействии с детьми – максимум дистанции, максимум свидетелей, которые видят, что дети от взрослого дистанцированы. Я работаю как специалист, а не как человек, который сам травмирован.
Вырисовывается довольно безвыходная картина.Она такая и есть. Представьте, я директор приюта, у меня зарплата 150 000, у меня было 20 детей и сейчас вдруг останется всего 2. Приют закроют. Куда я денусь? Это обычная защитная реакция любой системы – детского дома, приюта. Это обычное человеческое желание хорошо жить.
Я приехал в один детский дом-интернат, и директор – в сережках с бриллиантами, браслетом с часами тоже в бриллиантах – мне жаловалась на то, как вокруг все трудно и все сложно. А я смотрю и думаю: у нее-то все хорошо, а у них все трудно. И когда я в следующий раз приехал, она уже без украшений была, все сняла… Догадалась.
И все-таки вы решились пойти наперекор, изменить. Что важно сделать?
Мы стараемся помочь семье и ребенку.Мы стараемся сократить огромное количество социальных институтов, которые возникают, когда ребенка забирают из семьи.Мы должны выйти на модель взаимодействия, в которой конкретный человек несет ответственность за конкретного ребенка. В связи со сказанным, очень важно следовать стратегии выстраивания ИПР (индивидуального плана развития ребенка) с маршрутом. Когда у каждого ребенка будет свой наставник. Когда у тридцати детей появятся тридцать наставников, процент падёжа сирот будет гораздо ниже.
Возьмем Финляндию. Десять детей сирот – тридцать сотрудников. Они, как пчелы, над ребенком. Я там был, работал в этих учреждениях. Ребенок-наркоман попал в спецшколу. Он один, а с ним работают четыре специалиста! Даже не один на одного. Во-первых, специалист может устать, во-вторых, они все разное дают. В-третьих, ребенок начинает воспринимать, что вот эти четверо – самые главные. Не 15 и не 20. А у нас одна сотрудница 70 лет без какого-либо образования. Что она может сделать с ребенком, который требует столько внимания? Полный провал.Как, по-вашему, должна выглядеть оптимальная система?В Европе, Америке уже давно пересмотрели позицию относительно системы государственной заботы и признали ее неэффективной. На деле тратится много времени, ресурсов, и все приводит к тому, что общество получает психологического, ментального инвалида, реабилитацией которого в последствие нужно очень дорого заниматься. То есть он сначала дорого обходился системе, а потом его еще нужно также дорого сопровождать, реабилитировать. Поэтому там отказались от этой калечащей психику ребенка прослойки, его сразу устраивают в другую семью.
В Финляндии и других странах, в частности, после выхода фильма «Джон» (справка) поняли, что нужно менять систему. Сейчас там существует база профессиональных приемных семей. Как только ребенок-сирота появляется, его сразу помещают в освободившуюся семью. Хотят они этого или не хотят, они просто принимают его. У них есть специальное образование, они не работают, они занимаются только этим. Профессионально. И это не любовь.
У нас с 2013 года в Госдуме лежит Закон о профессиональной семье. Его не пропустил Минтруд. Здесь есть, конечно, определенная опасность, что на детях будут зарабатывать. Например, в Подмосковье есть целое гетто: мама, папа и по 15 детей-инвалидов. У них общий доход 3-4 миллиона в год. С детьми они не видятся, живут в отдельном домике, нанимают таджичек, чтобы те с детьми работали. Так что опасность, конечно, есть. Но если мы будем брать ребенка, помещать его сначала в больницу, потом в приют, потом он в федеральной базе данных, потом набегут волонтеры и его развратят, а потом этого ребенка начнем устраивать в приемную семью, которая сама тоже страдает (либо детей нет, либо мать одна, либо психически нездоровые) – это, по-вашему, лучше?
Я недавно видел, как от лица одного фонда актер Безруков ходит и рассказывает о каком-то ребенке, которого нужно устроить в семью. Они что, с ума сошли? Приемный родитель должен все знать об этом ребенке, и об этом приемной семье должен рассказать специалист-куратор: вашей семье этот ребенок не подходит, потому что он вас подомнет или вы его; вашей семье подходит только вот такой ребенок.
Это должен делать специалист, психолог! Он должен обследовать ребенка, выявить, какие у него есть проблемы, потребности. И принять решение, какая ему нужна конкретная семья: в которой, например, есть опыт того-то и того-то, нет детей и есть кошка. Безруков это разве знает, понимает, он разве проводил обследование? Он думает, что он совершает святое дело. Пошлость. Я представляю, если бы на Западе Синди Кроуфорд сироту пристраивала. Ее бы сразу спросили: «а почему ты не берешь?»
Вернемся к финской модели, о которой говорили выше. Она позволяет избежать дорогих затрат на подготовку новых специалистов. Зачем учить новых специалистов, если можно поместить ребенка в такую же семью, не создавая новые институты.
Наши же детские дома максимально держатся за детей, потому что «специалисты» должны быть пристроены. Никудышные, несчастные люди – сотрудницы детских домов. Когда я приезжаю в детские дома, смотрю на них и думаю: почему вы все такие унылые? Убери детей – куда вы денетесь, кому вы нужны? Начинают плакаться, как им плохо, как их не слушаются дети, посылают матом. Я говорю: «а как вы думаете, почему они это с вами делают? Потому что вы вообще для них никто». У меня много друзей – бывших директоров детских домов. Я им звоню, спрашиваю: «ну как ты?» Она отвечает: «я так счастлива, я никого не вижу – ни детей, ни все эти бесконечные проверки, ты вот все время приходил…». Понимаешь, что человек выживал там.
То есть оптимальная схема – передавать ребенка из семьи в семью?
Может быть какая-то буферная зона. Это связано с тем, как социальные работники оценивают риски. У нас эти риски никто не оценивает. Опека взяла, отправила, забыли. По-хорошему, в каждом случае неправомерного отобрания ребенка (когда ребенка удалось вернуть обратно в семью), необходимо направлять дело в ЕСПЧ, чтобы этих сотрудниц опеки заставить пожизненно выплачивать деньги этим детям. По сути, они совершили преступление. Но у нас этого возмездия не существует, это дело остается безнаказанным. 500 рублей – максимальный штраф за то, что была допущена ошибка. Вот и получается, на Западе все это закрыли, а у нас все открывается, потому что у нас перекос в законодательстве, слабое просвещение, нет реального стандарта качества жизни семьи. Об этом говорили, но как-то замяли: как определить качество жизни семьи? Холодильником, кроватями? Нет, детско-родительскими отношениями. Если они есть, то они и в концлагере будут, как в фильме «Жизнь прекрасна». А у нас все определяется нищетой, бедностью. И учитывая, что у нас 20 миллионов живут за чертой бедности, в любую семью приди, «правильные» вопросы задай и уводи ребенка.
Что ждет такого ребенка после детдома?
Ничего хорошего, они все – детдомовские дети. А делать-то что? Ведь найти на каждого ребенка обученного наставника – это утопическая идея, на мой взгляд.Во-первых, готовить к наставничеству нужно всех, вне зависимости от того, будет он работать с сиротой или нет. Рядом может оказаться любой другой ребенок, родитель, который оказался в трудной жизненной ситуации. Это необходимый навык включения в проблему человека.
Вот простой пример. Мы пришли в одну семью, нам нужно было, чтобы дети один день побыли вместе. И я в процессе взаимодействия с детьми в той семье (их шестеро, мама одна), выявил, что у одной девочки на руке страшный дерматит. Я (как человек сторонний, извне) пошел, купил крем, она намазала, сейчас у нее все прошло. Эта ситуация случилась не потому, что мама некомпетентна, а потому, что они так живут. Будет все красное, мама поцелует и скажет: пройдет. Я ж так не могу. Я пошел, купил крем. И каждый день в течение недели звоню по два раза: как там рука? Теперь я для этой девочки уже наставник. Я слежу за состоянием ее здоровья, звоню маме, интересуюсь, мало того – принес две большие сумки продуктов. Это маленькая деталь. Мое взаимодействие с конкретной девочкой, которая мыла посуду, и я заметил у нее на руке экзема.
Продолжение следует..
А.С.Гезалов